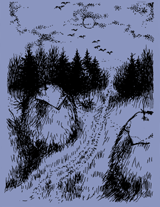Сколько напора и силы, и страсти
В малой пичуге невидимой масти,
Что распевает, над миром вися.
Слушает песню вселенная вся.
Слушает песню певца-одиночки,
Ту, что поют, уменьшаясь до точки,
Ту, что поют на дыханье одном,
На языке для поющих родном,
Ту, что живет в голубом небосводе
И погибает в земном переводе.
I
«Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.»
М.Ю.Лермонтов
В музыке существует термин «туше», что означает характер прикосновения к клавишам при игре на фортепиано. В музыкальной энциклопедии сказано: «Туше – одно из важнейших пианистических качеств, от которого в наибольшей степени зависит характер звучания инструмента. Каждому пианисту свойственно индивидуальное туше». За этот точный и тонкий термин я отдам все умные слова типа «концепция, трактовка, философия, мировоззрение». Если следить за туше, то есть за характером прикосновения к слову, явлению, вообще к жизни, то не назовешь холодным и высокомерным эстетом автора таких строк:
Как я люблю тебя. Есть в этом
Вечернем воздухе порой
Лазейки для души, просветы
В тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
Проходят меж стволами, пламенем
Ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
Вдохни, какое разлилось –
Зажмурься, уменьшись и в вечное
Пройди украдкою насквозь.
(Набоков. «Как я люблю тебя».)
Настойчивое «Л» – люблю, лазейки, лучи, стволы, люблю, лучи, пламя, ложатся, молчи, разлилось – создает ощущение чего-то летучего, ускользающего.
Такой зеленый, серый, то есть
Весь заштрихованный дождем,
И липовое, столь густое,
Что я перенести – уйдем.
Уйдем и этот сад оставим
И дождь, кипящий на тропах
Между тяжелыми цветами,
Целующими липкий прах.
Только поэт, для которого каждое мгновение – дар, может выткать такую тонкую, сквозную, светоносную словесную ткань. Множество гласных и особенно многократно повторенное «А» – закат, облака, лазурь, лаковая, замри, завтра дают физическое ощущение зияния, тех самых просветов в «ткани мировой». Рискну сравнить эти набоковские стихи с тремя интермеццо Брамса в исполнении Генриха Нейгауза. К сожалению, я слышала их только на пластинке. Но и старая заигранная пластинка сохранила неповторимое туше пианиста, его ломкий, слоистый звук, в котором одновременно живут и страсть, и нежность, и жалоба, и тоска.
Однажды я услышала те же интермеццо в исполнении Марии Юдиной, но ее звук показался мне слишком определенным и резким для этих вещей. Зато вряд ли кто-нибудь другой способен так исполнить последнюю сонату Бетховена, как она. Ее игра – это неустанное восхождение по отвесному гладкому склону на самую вершину, с которой путь либо в небеса, либо в бездну. И как одиноко и бесстрашно звучит над этой крутизной знаменитая бетховенская фраза! В ней – ликование и обреченность. А в настойчиво повторяемых диссонансных аккордах глухого Бетховена – богоборчество и молитва. Кажется, еще мгновенье – «и душа провалится в сиянье/ Катастрофы или торжества». (Георгий Иванов). Сознаю, что сужу о музыке, как профан, и единственно что дает мне на это какое-то право – моя неразделенная к ней любовь. Семь лет училась в музыкальной школе, но на всех экзаменах и прослушиваниях подводила техника. И я зачастую доигрывала произведения одной рукой: вторая, сбившись, беспомощно повисала в воздухе. Постоянно испытывая томление по музыке, позволю себе дерзкое сопоставление Бетховенской сонаты в исполнении Юдиной с поздними стихами Георгия Иванова:
Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.
Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи,
Не обращай вниманья.
Гляди в холодное ничто,
В сиянье постигая то,
Что выше пониманья.
Вот они – эти диссонансные аккорды: сиянье и гибель, лунный карниз и мировая ночь.
Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.
Какое разное туше! Набоков, добывая звук, лелеет каждый клавиш, с которым не хочет расстаться.
Глаза прикрою – и мгновенно
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостиной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.
И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы –
пенаты юности моей.
..................
..................
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,
С размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!
Чуткое внимание «к каждому завитку существования» (Марк Липовецкий), ласкающие согласные, поющие гласные – вот набоковское письмо. И сухое, почти небрежное письмо Георгия Иванова, аскетичность и краткость его высказывания. Чем же они берут – его стихи? В чем разгадка их силы? В том, наверное, что поэт извлекает звук безошибочным нажатием на болевые точки. Отсюда и скупость изобразительных средств. Зачем они ему?
За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.
В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней
По снегу русскому домой.
А вот совсем иной способ звукоизвлечения.
Настанет день – исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ древний и простой.
И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.
И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.
Это Бунин. Хочу понять, почему мне всегда были скучны его стихи. О музыкальной пьесе иногда говорят, что она сыграна хорошим звуком. Вот и эти стихи исполнены хорошим звуком. Все в них правильно, все на месте, а душа моя молчит.
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Никакого сбоя, никаких задыханий, никаких неожиданностей: жизнь – умерла, сады – опустели, я – один, мне – темно. Все одномерно. Вернее, пресно. Да и размер такой, будто продиктован метрономом. Бунинские стихи читаю вчуже: счастье – не мое, тоска – чужая. Понимаю, что это субъективно, но моя душа откликается на другое:
Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут – вот умора!
Но как странно – во Франции, тут
Я нигде не встречал мухомора.
Может быть просто климат не тот –
Мало сосен, березок, болотца...
Ну, а может быть, он не растет,
Потому что ему не растется...
(Георгий Иванов.)
Хотя туше одного поэта всегда узнаваемо, оно может с течением времени как-то меняться.
Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его до пьяна...
(Ахматова, 11-й год.)
«Лью, пои, пья» – кажется звук упивается сам собой, в себя влюблен и собой полон.
Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, –
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит...
(Ахматова, 56-й год.)
Это тоже стихи о любви, но в них нет жеманности, а есть простота и благородство звучания... А впрочем, все ли поддается анализу? Вспоминаю одно маленькое стихотворение Александра Кушнера:
Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.
Сюда – цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином – туда.
Скажи, ты счастлив? – Нет. – А так? –
Почти. – А так? – О да!
И далеко не всегда можно объяснить, почему в одно случае «Нет», а в другом – «О да».
До чего интересно копаться в разнообразных туше, которые, как мне кажется, гораздо больше говорят о художнике, чем логика и смысл произведения. Туше такое же непоправимое и неповторимое качество, как цвет глаз или голос. Руки Горовица, почти плашмя лежащие на клавиатуре – как они сумели сыграть паутинный узор Шуберта, его тончайшую нюансировку? Почему почти бесстрастное исполнение баховского клавира Гленом Гульдом рождает в душе пламя? Что происходит при соприкосновении пальцев с клавишами, а губ со словом? Почему от строчек «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме/ И Гете, свищущий на вьющейся тропе...» перехватывает горло, даже если забыл, как там дальше и не вполне понимаешь смысл? Наверное, на все эти вопросы ответ один – его дал Набоков в стихотворении «Слава»: «Эта тайна та-та, та-та-та-та-та-та,/ а точнее сказать я не вправе».
II
«И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать. »
Ф.И.Тютчев
Но кому вся эта звукопись, тайнопись? Кто возьмется ее разгадывать, расколдовывать? «А смертным власть дана любить и узнавать,/ Для них и звук в персты прольется» (Мандельштам). Но способен ли смертный в полной мере использовать свою власть и не утекает ли звук между пальцев? Поэт всегда пишет прежде всего для себя и говорит с собой. «Обыкновенный человек, – читаем в статье Мандельштама «О собеседнике», – когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет слушателя, поэт же наоборот – бежит «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы»... ». Но в какой-то момент в нем непременно просыпается томление по истинному читателю, по абсолютному сопереживанию, по «неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе» (Мандельштам. «О собеседнике»).
«И как нашел я друга в поколенье,/ Читателя найду в потомстве я». (Баратынский). Почему поэт верит, что его истинный читатель лишь в будущем? В той же статье Мандельштам говорит: «Обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета». Но дело, всё-таки, не только в этом. Обращаясь к читателю, поэт совершает теракт, покушаясь на чужое время и душу, втайне надеясь вывести читателя из равновесия, выбить из колеи, заставить пожить в своей температуре. Возможно ли это? В самом счастливом случае – да, но лишь иногда и ненадолго. А поэту надо всегда, потому что он «выкладывается» в каждом стихотворении. «Так пел я, пел и умирал... » (Пастернак), – говорит поэт, а убаюканный ритмом слушатель думает о своем. «Моя судьба сгорела между строк,/ Пока душа меняла оболочку» (Тарковский), а читатель скользит по строчкам взглядом. И тогда поэт пишет горькие и желчные стихи:
Как обидно – чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.
И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.
(Георгий Иванов.)
Но виноват ли читатель, которого и жаждет («Читателя, советчика, врача... ») и поносит («жемчуг свиньям раздаря») поэт? Адекватное восприятие – что это такое? В одном из своих произведений или писем Томас Манн говорит, что любит открывать книгу на случайной странице, потому что иногда мысль или фраза, выхваченные из контекста, запоминаются лучше, чем при чтении подряд. Но можно ли таким способом читать самого Томаса Манна с его длинными периодами, медленным развитием сюжета, предельно насыщенным текстом? И классики, живи они сегодня, вряд ли были бы удовлетворены тем, как их читают – растащили на цитаты и забыли. Часто ли перечитывают классику? Конечно, всего не вместить. Память выборочна и капризна. Что вчера казалось откровением, сегодня общее место. И наоборот. Забывчивость, короткая память, наверное, необходимы, чтобы жить дальше и на что-то решиться. Рискну процитировать свои давние стихи: «И в доме, что Овидий и Гораций/ Воспели и оплакали стократ,/ Как браться за перо? И как не браться?» Перечитывая Пушкина, я испытываю не только радость, но и отчаяние: он все сказал, зачем же множить строки? Забывчивость спасительна – она раскрепощает. Но именно забывчивость, а не невежество. Ведь забывая детали, помня лишь отдельные строки и общие очертания, мы дышим воздухом, в котором растворено все некогда любимое нами, и вновь созданное вырастает из прежнего опыта, пусть и неосознанно. «Я получил блаженное наследство/ Чужих певцов блуждающие сны;/ Свое родство и скучное соседство/ Мы презирать заведомо вольны./ И не одно сокровище, быть может,/ Минуя внуков, к правнукам уйдет,/ И снова скальд чужую песню сложит/ И, как свою, ее произнесет». (Мандельштам).
Лет двадцать назад одна моя знакомая, которая училась в ту пору в консерватории, рассказывала мне о своем преподавателе по сольфеджио: «Он творит чудеса: у меня открылись уши». И, поднеся к ушам ладони, она медленно выпрямила и раздвинула пальцы. Я вспомнила этот эпизод, читая рассказ американского писателя Ирвина Шоу «Шепоты в Бедламе».
Герой рассказа по имени Хьюго приходит к врачу с жалобой на левое ухо, которым почти перестал слышать. Врач, осматривая больного, делится с ним своей любимой мыслью о несовершенстве человеческого слуха. «Во время исполнения поздних квартетов Бетховена в концертном зале, – говорит он, – люди должны были бы попадать с кресел и в экстазе кататься по полу. А они что делают? Смотрят в програмку и соображают, успеют ли до отхода поезда пропустить стаканчик пива». Позже, оперируя Хьюго, доктор наделил его необычайным слухом; тот стал слышать не только произнесенное далеко от него, но и тайные мысли собеседника. А во время исполнения органной мессы в храме был так потрясен, что упал на пол и стал кататься в экстазе. Измученный, он прибежал к врачу, требуя вернуть ему прежний слух. «Вы хотите снова оглохнуть?» – изумился доктор. «Так точно», – ответил пациент. Час спустя, выйдя от доктора с забинтованным ухом, Хьюго был счастлив: он снова чувствовал себя закупоренной бутылкой.
Острота восприятия – дар и наказание. Инстинкт самосохранения заставляет смотреть вполглаза и слушать вполуха. Потому и возникает у художника томление по собеседнику. «Стихи скрыты под непроницаемым покрывалом, они спят в ожидании Эдипа, который придет разгадать их, чтобы они проснулись и снова замерли в молчании...» (Лорка. Лекции и статьи). И не сетовать надо на несовершенство восприятия, а удивляться тому, что иногда происходит чудо, и простой смертный превращается в Эдипа, способного разгадать загадку Сфинкса.
Март – апрель, 1993 г.
|