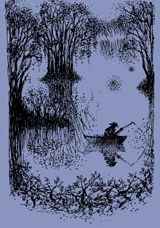Поэзия и проза Ларисы Миллер
I
Сейчас восстанавливаются добрые традиции, и пишется статья за статьей, как много хорошего было в этих традициях, как много мы потеряли, потеряв живое предание, как важно к нему вернуться. Но традиции сами по себе ничего не рождают, нужно встречное движение: от нуля, из безвременья, изнутри своей тоски по подлинному и своей способности вырваться из плена стереотипов и стать самим собой. Потом уже находятся попутчики. Впрочем, говоря о плене стереотипов, я, кажется, больше думал о себе: я свое детство потерял и с трудом нашел в других. А в Ларисе Миллер поэт начался с незыблемого детства (которое никакой режим не в состоянии лишить обаяния) и продолжался в верности детству (так поразительно пересказанному в прозе). Опираясь на сохраненное детство, поэт творит мир заново и восстанавливает оборванную связь времен. И вдруг понимает, что он звено в традиции.
Из этого вырастает все: и дух, и стиль. Дух андерсеновского мальчика, для которого короли, вызывающие общее поклонение, – голые. Этот ребенок, став взрослым, по-прежнему не верит в слова, за которыми нет поступков и решительно не поддается соблазну заменить подлинное знание условным, как бумажные деньги, приняв на веру, что где-то в банке есть золото.
Также самобытен и стиль, ни на кого не похожий без всяких усилий быть ни на кого не похожей, одинаково поэтичной в стихах и в прозе. Даже особенно в прозе. Одна из примет подлинного поэта – проза, не похожая на прозу прозаика. Примета, которая не всегда налицо. Проза Пушкина – подчеркнуто прозаичная проза. Проза Лермонтова – исток русского романа. Но в XX веке возникла проза Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, которую так и называли: проза поэта. В этот ряд естественно становится проза Ларисы Миллер. Этого нет почти ни у кого из поэтов – ее современников. Именно в прозе она как-то не может не быть поэтом. Какие-то осечки рассудочности скорее возможны в стихах (если брать не отобранный сборник, а весь поток). Проза же вся – лирическая раскрытость и лирическое открытие детали, случая, сказанного слова. Без всякой попытки сюжета, без последовательности во времени и в пространстве. Только внутренняя последовательность душевного движения.
Современный человек с детства заштампован, с детства ему навязана целая куча идей, представлений, вкусов, в которых он барахтается, не в силах найти самого себя, свое равновесие на этих разъезжающихся бревнах. Богатство и разнообразие современной культуры становится бедностью культурного человека (пенснейного человека, как выражалась Марина Цветаева). И он временами завидует дикарю, у которого его примитив – целый и весь влезает в голову, и нет 10 млн. томов столичной библиотеки. Почти каждый из нас в юности путался среди бесчисленных книг, навязывавших себя, и многие отчаивались, как герой Т.С. Элиота:
Мы полые люди,
Трухою набитые люди...
Набитые трухою информации. И когда такой наш современник наталкивается на «самособойность», он испытывает чувство путника, изнывавшего от жажды и вдруг напившегося ключевой воды.
Это не только неповторимая личность. Это некоторый (не попавший еще в литературу) женский тип. Для женщин подобного склада творчество Миллер имеет особый смысл. Тип сам себя не выражает, это ему не дано. Ирина, младшая из чеховских сестер, сравнивает себя с запертым роялем. И встречая что-то близкое своему внутреннему миру, нашедшее себя в слове, такая читательница слышит запертый рояль отпертым и зазвучавшим.
Лирически выраженный тип – такая же реальность, как эпические женские образы Пушкина, Тургенева, Толстого. Только реальность, раскрывшаяся изнутри. Героиня Ларисы Миллер – из рода Гамлета и могла бы повторить слова прапрадеда: «вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Хрупкая, ранимая и в то же время – совершенная неподатливость к идейной обработке Розенкранцев и Гильденстернов. Ум сочетается с трепетной нежностью, страсть стыдлива, а чувство бытия над пропастью уравновешено внутренней красотой бытия и материнской любовью. Никаких гарантий, никакой внешней защиты:
Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра...
Очень личный, женский, материнский образ. И вместе с тем, это общий символ нашего века, когда человек с трудом и опаской пробирается среди торжествующих машин: металлических – и тихо перемалывающих совесть и сердце социальных машин. В этот век быть живым, «живым и только», становится нравственным подвигом и поэтическим открытием. Чувство фальши удерживает Ларису Миллер от придуманной веры, но что-то в ее открытии есть и религиозное (несформулированная религиозность). Если понимать под религией то, что помогает испытать чувство вечности. Или, по крайней мере, – намек на это чувство.
Прикосновение к таинственной запертой двери – в чувстве священности красоты и связи красоты с добром. В идеале рисуется платоновский мир, где истина, добро и красота должны быть едины, и когда они разрываются и тянут каждая в свою сторону, – возникает мучительный детский вопрос: почему же они не вместе? И поэт, даже втянутый в трагическую коллизию, не согласен на трагическое самоутверждение (и самооправдание). Он с недоумением оставляет вопрос открытым и – чувствуя враждебный, искаженный мир за спиной – продолжает строить свое убежище от смерти и тлена:
Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что все рассеется потом,
Уйдет, разрушится и канет,
И отомрет и сил не станет
Подумать о пережитом.
Вопреки всему могуществу разрушения снова и снова приходит детское доверие к миру. Никакие удары, никакие обиды не в состоянии его победить. Обид в повести перечислено очень много, но нет обиженности, нет закомплексованности обидой. Обиды приходят и уходят, а дар поэзии, дар радости остается:
Муза. Оборотень. Чудо.
Я тебя искала всюду.
Я тебя искать бросалась –
Ты руки моей касалась.
Ты всегда была со мною –
Звуками и тишиною,
Талым снегом, почкой клейкой,
Ручейка лесного змейкой...
Видеть свет солнца (так греки понимали жизнь). Откликаться на звуки и тишину, на талый снег и клейкие почки. И тогда приходят стихи. И творческая воля удерживает хрупкий мир в равновесии. Воля, направленная к тому, что лечит, а не калечит:
А у меня всего одна
Картина в рамке побеленной:
Июньский день и сад зеленый
В квадрате моего окна.
И дуба тень. И дома тыл.
Забор. А ниже, где художник
Поставить подпись позабыл –
Омытый ливнем подорожник.
Дата под стихотворением – 1967. Поэту около 30. Время, когда сложился его (ее) мир. Таким и остался основной поток стихов. Этот мир природной красоты – тот плот, на котором Лариса Миллер спасается, на который она приглашает своих читателей (и наверное многих спасает). Но иногда волны почти смывают с плота и рвется «покров, наброшенный над бездной» и поэт тонет, гибнет и не говорит, а скорее проговаривается о том, что рвет на части и гасит разум, и трудно объяснить, зачем об этом писать:
Должно быть, под угрозой пытки,
Когда висела жизнь на нитке.
Я выставила напоказ
Все, что чужих боится глаз.
Должно быть, клали соль на ранку,
Чтоб вывернулась наизнанку,
Не утаила ничего:
Ни сна, ни вздоха своего...
Страсти поэта – радость читателя: в испытаниях рождались самые лучшие, самые вдохновенные стихи и лучшие страницы лирической прозы. Бывает, что творческие натуры прямо ищут таких падений, "пропадов", затерянности в бездне. Лариса Миллер – не ищет. Но провалы в бессознательное иногда сами находят ее:
Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно,
Даже если собою владеть невозможно,
Когда маленький ангел на белых крылах –
Вот еще один взмах, и еще один взмах
К нам слетает с небес и садится меж нами,
Прикоснувшись к земле неземными крылами.
Я слежу за случившимся, веки смежив,
Чем жила я доселе и чем ты был жив,
И моя и твоя в мире сем принадлежность –
Все неважно, когда есть безмерная нежность...
Воля здесь сказывается только в форме – в которой целая философия сдержанности, противоположная традиции прямо называть сокровенное и обнажать корни:
Когда любовь перегорала,
Когда из многих тем хорала
Звучали только зов и стон,
Любовь от смерти спас канон...
В очень непосредственной, кажущейся иногда импрессионистической поэзии Ларисы Миллер есть внутренний канон, близкий, может быть, классическому канону в столкновениях долга и страсти, отчаяния потери – и любви к оставшемуся и оставшимся:
Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.
В этой воле к равновесию в страсти и в отчаяньи – самое важное из того, что Лариса Миллер говорит нашему времени. В воле к гармонии над бездной. Гармонии, опирающейся (сквозь страх) на детское доверие к жизни.
Я думаю, что эта вера и эта воля уравновесят – хотя, может быть, и не победят – чувство тревоги, вырвавшееся в последней прозе. Но пройти мимо «Домашнего адреса» нельзя. Это капля того кризиса, в котором сейчас вся страна и который так или иначе чувствует каждый.
Когда-то шутили (лет 10 – 15 назад): в Англии разрешается все, что не запрещается. В Германии запрещается все, что не разрешается. Во Франции разрешается все, что запрещается. В России запрещается все, что разрешается... И вдруг модель № 4 уступила модели № 3. Фактически разрешено все: и респектабельная критика президента в клубе «Московская трибуна», и призывы к погрому. Часть наших сограждан оказалась сродни Калибану, вырвавшемуся на волю.
«Домашний адрес» – открытый вопрос, обращенный к читателю. Сейчас все бросились в публицистику. Тревога не складывается в пластические образы. Но в лирике и тревога и страх становятся поэзией и мы заново, глубже переживаем это чувство пропасти, которое нельзя терять, чтобы пройти по краю и не обрушиться в пропасть.
Григорий Померанц
II
Основное чувство от поэзии Ларисы Миллер – сочетание хрупкости и значительности бытия. Все невероятно хрупко, беззащитно, разрушимо и одновременно каждая деталь, каждый миг продолжается за собственные пределы и очень весом и значим. Каждый всплеск красоты – бабочка Бредбери, от которой идут нити в будущее. Их невозможно проследить за одну жизнь. Каждая жизнь, каждая частица бытия связаны этими невидимыми нитями с чем-то, чего сейчас нет перед глазами. Отсюда это пронзительное чувство разлуки со своим домирным «я», со своим неведомым «ты», которое является смыслом и сутью всего ведомого, явного. И с одной стороны нет ничего нужнее этого «ты», а с другой – ничего нет мучительнее чувства зыбкости, беззащитности, мимолетности всего здешнего, веского, явного и такого родного. Жизнь постоянно висит на нитке и – /сполз с поверхности земной/ край пеленки кружевной/. Может быть, весь мир и ощущается таким тончайшим кружевом, где каждая ниточка – нить жизни. И от этого и пронзительное блаженство и пронзительный страх одновременно.
Пронзительность – это, кажется, главное слово, когда говоришь о поэзии Ларисы Миллер. Чего уж нет совсем в этой поэзии так это самоуспокоенности, самодостаточности, даже просто защищенности. Если было бы позволено сравнивать эту поэзию, эту поэтическую мысль с домом, то это был бы дом, в котором главное – не плотные стены, а почти сплошное окно, уводящее в дали. Отсылка куда-то за себя, от себя, сквозь себя. Эта мысль не утверждает, что она что-то нашла незыблемое и неизменное. Нет, она точно говорит: «Я совсем никакое не основание, я только чувствую свою связь с ним и трепещу от этого чувства».
Этот трепет и есть на мой взгляд, – начало истинной религиозности. Хотя – только начало и – «Вместо благодати – намек на благодать». Этот намек на нечто бесконечно большее, чем то, что вмещено в наш окоем, и есть поэзия Ларисы Миллер.
Всюду в мире рассыпаны намеки, которые надо уметь понять. Все может стать началом пути в неведомое. Не в фантастическое, а в реальное пространство, реальность которого удостоверена опытом сердца. Но – далекое и неведомое.
«Отказаться от ложного, еще не зная истинного» (Кришна-мурти) – вот первый шаг духовного пути. Шаг, без которого такой путь невозможен. Он требует мужества, этот шаг.
В наш век остается менее всего места для незнания. Все всё знают. Или одно или прямо противоположное. И плоский материализм сменяется подчас не менее плоским фундаментализмом. И то и другое одинаково минует тайну, всегда превосходящую наш разум и соединяющуюся с нашим сердцем.
Между тем без согласия на тайну, без сократовского «я знаю только то, что я ничего не знаю» по настоящему невозможны, ни поэзия, ни религия, ни духовный рост.
Поэзия Ларисы Миллер это трепет радости и боли одновременно. Радости от соприкосновения с тайной, намекающей на благодать, и боли от чувства недостижимости благодати. Это жизнь, открытая своему источнику и одновременно открытая боли, жизнь с ощущением вечной иглы в сердце. Жизнь с вечно открытым вопросом: найдет ли она успокоение среди беспокойства и незыблемость среди бездны, – ту небесную твердь, ощущение которой и есть благодать?..
Найдет или не найдет, она никогда не променяет ее на твердь земную – ту твердую почву под ногами, которая всегда отгорожена от Бесконечности, всегда от чего-то и кого-то закрыта. А от чего бы мы не отгородились при самозащите, мы рискуем отгородиться от Бога. Ибо никто не знает с какой стороны Он придет.
Зинаида Миркина
|